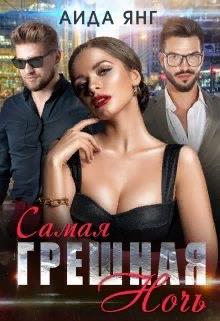миру известно, что ты – подлый дашнак?
Дядины глаза налились кровью, от чего он стал похожим на разъярившегося тупоголового быка. Он вскочил на ноги, опрокинув стул.
- Как же им удалось так прополоскать твои мозги, что и ты пошла против родной крови? Ведь кровь матери должна была быть тебе ближе отцовской! Чем они тебя взяли, что ты, как и мать твоя, стоишь на стороне проклятых турков? Вы все продажные шлюхи! – взревел он.
- Это ты продажный, это с подачи таких, как ты, произошли январское кровопролитие в Баку и трагедия в Ходжалах! Как же, жди, буду исполнять поручения твоей преступной террористической организации! Да я всему миру расскажу, чем вы занимаетесь в вашем Ереване и за счѐт чего обогащаетесь!
Тут бык заревел, и двинулся на меня, извергая лавину ругательств на армянском языке, из которых я разбирала только слово «турок»…
Я испугалась и стала отходить назад, но дядя Рубен вдруг с неожиданной проворностью и ловкостью нападающего медведя бросился на меня, и, свалив наземь, принялся бить, срывая с меня одежду. Я стала отбиваться, как могла, но силы были неравными. В этот момент зазвонил телефон.
«Азер!» - блеснуло у меня в мозгу, и силы мои удвоились. По-кошачьи вцепившись в его наглые бычьи глаза, я попыталась высвободиться из под его воняющего потом грузного тела, чтобы схватить телефон и услышать голос Азера. Мне казалось, что стоит мне услышать голос любимого, как я проснусь от этого кошмарного сна... Но дядя Рубен, взвизгнув от боли, приподнял меня, ударив со всей силой головой о стену, и я потеряла сознание...
Глава 74
... Очнулась я оттого, что сидящее на мне огромное и косматое чудовище трясѐт меня, нанося пощѐчины, и орѐт:
- Шлюха! Турецкая подстилка! Уже успела услужить туркам, проститутка малолетняя! Признавайся, скольким туркам ты уже дала! В твоѐм возрасте ты обязана была быть девственницей, гадюка ты эдакая!
Ах, вот оно, что! Оказывается, моего дядю «самых честных правил» больше всего возмутило, что его племянница не девственница! Горькие слѐзы бессильной ярости брызнули из моих глаз, и эта реакция была единственной, на которую я была способна, потому что не в состоянии была пошевелить даже мизинцем, совершенно не ощущая своего тела. Между тем, грязный насильник вновь наотмашь влепил мне пощѐчину. Тяжело дышащий, с отвисшей нижней губой, с которой стекали слюни, он был похож на разъярившегося кабана. И как только я не увидела этого раньше? Собравшись с силами, я плюнула в его багровую мерзкую морду и со всей ненавистью и презрением прошипела:
- Свинья! Грязная и мерзкая свинья! Не-на-ви-жу тебя!
-У-у-у-у-у-у! – проревел кабан и принялся душить меня.
Я хрипела, угасающим разумом понимая, что это конец, как вдруг услышала какой-то посторонний тупой звук, после которого дядя Рубен обмяк, придавив меня своей тушей, но, к счастью, разжав душившие меня цепкие лапы. На моѐ тело потекла какая-то жидкость: «Это его кровь!» – с омерзением поняла я. Отвращение моѐ было так сильно, что силы вернулись ко мне. Я отшвырнула его в сторону и... увидела свою мать, стоящую над нами, на лице которой не было ни кровинки. Она склонилась над нами, держа в руках ножны от снятого со стены кинжала, и качалась, как безумная.
- Мама! – позвала я еѐ, не веря своим глазам.
Моя мать очнулась и, бросив на меня пустой взгляд, села на колени, обхватив голову руками.
- Я попаду в ад, потому что убила сына своей матери, - тихо сказала она. Она так и сказала – сына своей матери, а не брата.
- Ты попадѐшь в рай, потому что ты убила насильника и скотину, - едва дыша от нечеловеческой усталости, возразила я, но она не слышала меня, продолжая раскачиваться, словно полоумная.
Я отшвырнула ногой грузную тушу мерзавца, пронзѐнную азербайджанским кинжалом - подарком моего отца и поплелась в ванную. Инстинктивно я хотела смыть с себя въевшуюся в мою плоть липкую грязь его омерзительного тела. Не помню, сколько я мыла свою покрытую ссадинами и синяками израненную и осквернѐнную плоть – час, два, три… но когда я выползла из ванной, мать моя продолжала сидеть в той же позе, раскачиваясь и не выпуская из рук ножен от кинжала. Набросив на себя халатик, я подошла к ней и осторожно высвободила из еѐ рук ножны. Подхватив маму за плечи, я сдвинула еѐ неподвижное тело, прислонив его к стене. Затем я с трудом вытащила кинжал, насквозь проткнувший ненавистную жирную плоть, тщательно протѐрла его рукоятку и ножны кухонным полотенцем – с острия кинжала стекала презренная кровь сына моей бабушки, которого язык не поворачивался назвать дядей. Крепко сжав рукоятку в кулаке, я стала наносить удары невидимым противникам, ухмылявшимся мне со стены: мерзким националистам - дашнакам, продажным кремлѐвским тварям - подстрекателям, жестоким оккупантам-карателям, армянским бородачам, насильникам, убийцам... После очередного удара о стену рука моя онемела, и я опустилась наземь в полном бессилии, бросив кинжал на труп брата моей матери. Мой взгляд наткнулся на валявшуюся на полу разорванную цепочку с магнитным шариком. Я крепко сжала в руке свой магнитный шарик ...
Далее я действовала более осознанно: уложив всѐ необходимое в свою дорожную сумку, я тщательно выбирала себе одежду, чтобы скрыть под ней синяки и ссадины. Когда я была полностью экипирована, я подошла ко всѐ ещѐ неподвижно сидящей матери, поцеловала еѐ и сказала ей:
- Запомни, мамочка, это я убила твоего брата. У тебя есть алиби: ты была в театре с подругой. Родная моя, постарайся взять себя в руки. Ты должна помнить о бабушке Грете, у неѐ уже нет сына, нет внучки, у неѐ уже никого нет, кроме тебя.
При этих словах моя несчастная мать вздрогнула, и начала протяжно выть... Выходя, я обернулась, бросив на неѐ последний взгляд. На мгновение взгляды наши перекрестились, чтобы разойтись навсегда...
Холодная и жестокая Москва жила своей жизнью: дорогие бутики, фешенебельные гостиницы, роскошные машины и праздные люди, которым ни до чего и ни кого нет дела. Я шла по знакомой мне с детства улице Миклухо-Маклая в районе Беляево, где отец в своѐ время купил для нас кооперативную квартиру, и вспоминала, как в детстве мама возила меня на маршрутках со станции метро Юго-Западная в фирменные магазины «Белград», «Ядран», «Лейпциг», а вечерами отец